
ScienceHunter Ред. 29.12.2020
Соцсети и интернет: взгляд социолога
Полина Колозариди — о том, изменился ли мир и отношения между людьми с изобретением новых технологий

Полина Колозариди — социолог, младший научный сотрудник Высшей школы экономики и исследователь Центра изучения интернета и общества.
— Что такое социальные сети с точки зрения социолога?
— Для социологов социальные сети появились за десятки лет до того, как возникли соцсети в интернете. Родоначальником их исследования считают социолога и философа Георга Зиммеля. Зиммель ставит вопрос, как вообще люди связаны друг с другом, и вводит понятие формальной социологии. «Формальная» означает, что внимание исследователей обращается на характер связей, их количество, а не на содержание отношений. Начиная с 1950-х годов этот подход стал использоваться в американской социологии, но уже совсем в другом ключе. Речь шла об анализе характера связей, возникающих в разных группах: родственных, профессиональных. Тогда стали возникать понятия, которые можно было высчитывать, например плотность связей. В 1970-е годы тема сетей стала очень популярной в социальных науках, ею занимались не только социологи, создавались междисциплинарные исследовательские группы, возникало все больше методологических подходов, в частности появилось понятие слабых связей, которое часто используется для описания того, что происходит в интернете.

— То есть словосочетание «социальная сеть», которое применяют к сайтам в интернете, взято напрямую из социологической традиции?
— Да, получается, что это одно из слов, которые вошли в нашу повседневную жизнь из научной терминологии. Интернет — это такое самосбывающееся пророчество; его появления ждали, появились технологические утопии, и в них был опробован язык, которым в будущем будет описываться интернет.
Нынешние социальные сети в интернете нам дали, по сути, только визуализацию того, что было описано ранее. В фейсбуке есть приложения, например Friend Wheel, которое нарисует вам вашу социальную сеть, — но еще до всякого фейсбука вы могли сами нарисовать ее на листочке, обозначив связи с вашими родственниками, одноклассниками, коллегами и так далее. И это понятие до сих пор используется в расширительном смысле, когда мы говорим об общественных отношениях.
— Что социолог стал понимать лучше, после того как существование социальных сетей так наглядно проявилось в интернете?
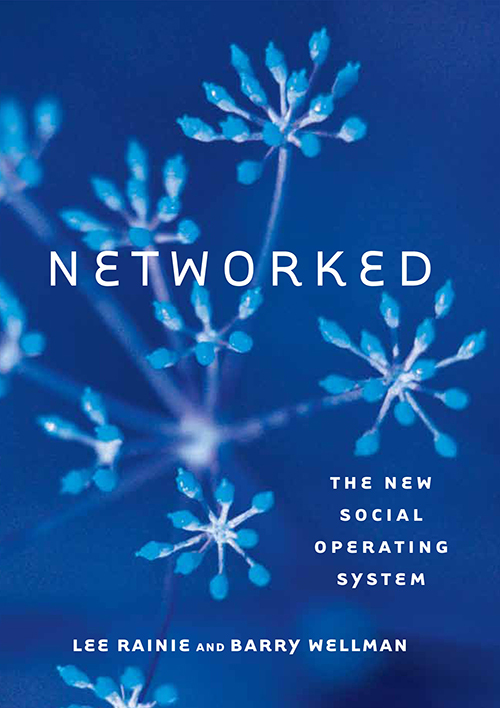
— Наверное, лучше всего прирост теоретического понимания был описан в книге Ли Рэйни и Барри Уэллмана «The Networked» — это трудно перевести на русский, должно получиться что-то вроде «Связанные сетью». Раньше для социологов люди были всего лишь представителями каких-то групп — более или менее устойчивых сообществ вроде социальных классов. Сейчас понятие группы или сообщества переформулируется; по Уэллману, человек оказывается частью разных сетей, а не своей большой группы, которая не раскладывается на составляющие.
Дальше социолог может применять к человеку разные виды анализа. Один из них — это математизированный сетевой анализ, с помощью которого можно, например, изучать гомофилию в соцсетях. Это явление, когда люди со схожими представлениями и взглядами состоят в одной сети. Вы, наверное, слышали про «гугл-баббл» — ситуацию, когда в информационный поток вокруг нас попадает только то, что соответствует нашим взглядам, и не попадает то, что не соответствует, — это работает и при формировании ленты в фейсбуке, и в поисковой выдаче гугла. Если вы консерватор, вы видите, что происходит у ваших консервативных друзей, и не видите, что там думают в этот момент либертарианцы.
Второй вариант анализа, менее математизированный, — это акторно-сетевая теория, придуманная социологом Бруно Латуром. Внутри этой теории вообще все взаимодействие описывается как сетевое: сейчас во взаимодействии участвуем не только мы с вами, но и диктофон (который заставляет меня говорить более правильной речью, похожей на письменную) и блокнот (в котором могут быть заготовленные вопросы и ремарки, придуманные по ходу интервью). В конце концов, стол и чай — тоже часть нашего с вами взаимодействия. При исследовании интернета место этих вещей занимает интерфейс. Правда, надо заметить, что сами сторонники акторно-сетевой теории к интернету относятся скорее как к метафоре.
— Изменились ли мы, после того как были изобретены фейсбук и твиттер?
— Можно сказать, что на сами социальные сети изобретение фейсбука никак не повлияло: мы раньше знали, что социальные сети существуют, а теперь еще и видим их — на этом все. Другое дело, что, когда человек начинает сам осознавать себя как исчисляемый объект, он меняется. Например, он каждый день видит свое прошлое: фейсбук подкидывает фотографии — «вот вы пять лет назад». Если человек пользуется приложениями, он может посчитать, сколько кофе он выпил и сколько километров по какому маршруту прошел. Все эти вещи, которые раньше хранились в его памяти, теперь хранятся в интерфейсе программы; как это повлияет на человека, мы пока до конца не знаем. Есть предварительные данные психологов, исследовавших детей, которые начинают образование уже в новой технологической ситуации. У них меняется память: она становится «выносной», более пространственной. Условно говоря, если вам надо вспомнить какой-то кусок информации, например дату битвы Столетней войны, вы вспомните не ее, а место, где ее видели, например страницу в «Википедии». Библиотекарей этим не удивишь, но сейчас это распространяется на миллионы людей, которые никогда не были в библиотеке.
Второе — это изменение нашего представления о структуре информации. Исследования людей, которые давно в социальных сетях, показывают, что пользователи не рефлексируют структуру, они скорее представляют информацию как поток. Если вы храните документы в папке на компьютере, у вас есть представление о пути к этой папке. Если вы скидываете документы в почту, то, скорее, у вас представление о том, кому вы что посылали, и вы пользуетесь поиском.
— Есть ли исследования того, как способы взаимодействия людей в интернете отражаются на их обыденной жизни?
— Вот что важно здесь сказать. Сейчас, когда мы беседуем в конце 2015 года, социальные сети для нас — по-прежнему немного другое пространство, отличное от нашего обыденного: вот я дома или в кафе, а вот я в виртуальной реальности. Но совсем скоро это различие между онлайном и офлайном сотрется окончательно. В Юго-Восточной Азии, где очень распространен мобильный интернет, одно исследование показало, что, когда человек открывает на телефоне новостное приложение, он вообще не думает, что входит в интернет, — для него это просто приложение, это как раскрыть газету. Недавно группа «Исследования современного детства» в ВШЭ опрашивала подростков. Им задавали вопрос: когда вы проводите время в интернете? Они отвечали: я прихожу из школы, сижу в интернете, в четыре часа иду гулять с друзьями. Исследователи смотрят: 16:30, в соцсети фотография — «я с друзьями там-то». Они спрашивают: почему же вы говорите, что не были в интернете? И им отвечают: я не был в интернете, я просто сфотографировался и вывесил фотку. Граница онлайна и офлайна стала по-настоящему условной. С распространением мобильной связи, планшетов и всего такого интернет перестает быть отдельным пространством.

Соответственно, вопрос, насколько различаются наши практики поведения в интернете и в офлайн-пространстве, тоже чуть-чуть обессмыслился. Но все равно кое-что можно сказать. Например, в соцсетях, по сравнению с интернетом, который был до них, общение стало менее вербальным, оно меньше ориентировано на текст. Если вы ведете блог, вам надо что-то писать; в более редких случаях вы выложите фоточку. В соцсетях вы можете поставить лайк или эмодзи. Люди пишут без больших букв, не ставят точку в конце, грамматически текст становится все ближе к устной речи, если не к потоку мысли — мои студенты считают, что мессенджеры больше похожи на потоки сознания, чем на беседы. К чему это приведет — до конца непонятно.
— Есть ли какие-то модные подходы к социологическому исследованию интернета?
— Одна из самых важных тем — уже даже немного попсовая — это big data, большие данные. В прямом доступе появилось такое количество данных, которое раньше было в лучшем случае в статистических институтах; надо владеть лишь банальными навыками программирования. Допустим, ваш телефон может о вас рассказать какое-то невероятное количество информации, вплоть до того, где и сколько вы спите. Много говорят о том, что банки обращаются к сотовым операторам, узнают, что человек общается с большим количеством должников, а затем отказывают ему в кредите. Это ужасно незаконно, но они это делают. Но для социологов открывается огромное поле для вполне легальной работы.
Другой вопрос — насколько эти данные валидны: опыт показывает, что они могут разительно отличаться от того, что социологи узнают о тех же людях благодаря опросам и интервью. Есть и много дополнительных проблем: например, до сих пор большинство таких данных являются собственностью корпораций, и доступ к ним затруднен. Есть и техническая сторона: данные твиттера за 2011 и 2015 годы оказываются несопоставимы просто из-за того, что сама программа менялась. Но тем не менее еще в конце 1990-х годов исследователи стали делать ставку на то, что когда-нибудь эти данные нам скажут о людях очень много.
— Изучают ли социологи, как из-за соцсетей изменилось представление о публичном и интимном?
— Мне очень нравится версия американского социолога Даны Бойд, что интернет — это публичное приватное пространство. То есть человек не всегда до конца знает, насколько публичным является то или иное его действие. Он понимает, что оно доступно не только ему самому, но и кругу друзей тоже, а возможно, и кругу гораздо более широкому. Феномен внезапной популярности это показывает: человек выкладывает фотографию для нескольких друзей, а потом она расходится по всему интернету. При этом сегодня интернет движется в сторону усиления приватности. Тот факт, что социальные сети постепенно уступают место мессенджерам, то есть общению в ограниченном круге людей, говорит, что эпоха суперпубличного интернета постепенно проходит.

— А почему так?
— Идея и, можно сказать, утопия интернета возникала на рубеже 1980–90-х, когда многие — хоть европейские мыслители, хоть советские диссиденты — говорили о глобализации, об идее единого человечества. Интернет был частью этой идеи, возьмите для примера хотя бы масштабную, по всему миру организованную кампанию за преодоление «цифрового неравенства». Сейчас о глобализации в публичном пространстве говорят все меньше — и с меньшим пиететом; мысль, что мы сделаем нечто для всего человечества, постепенно отходит на второй план, и место интернета в истории идей меняется.
И пусть у интернета нет государственных границ — все равно с его появлением люди не стали вдруг общаться с незнакомцами с другого конца земного шара, если эти незнакомцы им не нужны. Наоборот, в интернете возникают новые очерченные сообщества. От идеи тотальной экспансии интернет больше переходит к идее объединения вокруг каких-то тем, интересов, мест. Например, сейчас очень популярны сервисы, совмещающие геолокацию и общение: мы сидим в кафе, и у меня в чате могут быть люди, которые тоже сидят в этом кафе. Мы с ними общаемся, но потом я уйду отсюда и, может быть, больше никогда их не увижу, — а может быть, мы познакомимся, если я сюда регулярно хожу.
— Совсем недавно с большим интересом все говорили о твиттерных революциях — прежде всего, о влиянии соцсетей и микроблогов на «арабскую весну». Что сейчас про это думают социологи?
— Да, это была очень модная тема, главный вопрос был: влияет ли интернет на политическую деятельность. Сейчас уже понятно, что интернет, хотя и ускоряет процессы, не меняет ничего кардинально. Будь у революционеров газеты вместо твиттера, они все равно вышли бы на площадь — пусть и не так быстро. Кроме того, сейчас государство использует социальные сети не менее активно, чем низовые активисты.
Сейчас стало намного проще уловить пути распространения информации. Раньше мы не могли определить, откуда человек что-то узнал. Изначально предполагалось, что с развитием технологий информация будет передаваться вирусно: от пользователя к пользователю. Но современные исследования твиттера показывают, что это не так: средняя цепочка передачи — это обычно три человека, не больше. Люди все равно читают медиа, а не друг друга.

— Была популярная идея, что с появлением новых медиа и технологий отнять свободу слова — ограничить распространение информации — будет уже невозможно. Об этом оптимизме все забыли?
— Скорее нет. Оксфорд недавно издал учебник по интернет-исследованиям, и в предисловии Мануэля Кастельса по-прежнему говорится, что интернет — это потрясающая освобождающая технология. Количество кибероптимистов не то чтобы радикально снижается на фоне киберпессимистов и киберскептиков, скорее, они добавили скепсис в изначальный набор своих исследовательских скиллов.
— Вы упомянули Оксфорд. Много ли в мире специальных кафедр, изучающих интернет? Это мощная струя в образовании и науке?
— Это как раз тема моей диссертации, я изучаю, как менялся интернет в качестве предмета интереса ученых. Расскажу о факте, который меня поразил. Представьте себе: проходит конференция «Conference on Computers, Freedom, and Privacy» в городе Бёрлингеме, обсуждаются проблемы социальной ответственности в информационную эпоху, приватности и публичности, того, кто может иметь доступ к электронным данным государства, и так далее. На этой конференции была сложена одна баллада. Тут вы вздрагиваете и понимаете, что речь идет о чем-то не совсем современном, — и все верно, это 1991 год. То есть люди обсуждали интернет до интернета — тогда еще была только World Wide Web, и то в широком доступе она стала распространяться в 1993-м. Все эти исследования были сильно подготовлены футурологией, и изначальный интерес у многих был гуманитарным. Параллельно с этим развивалась технологическая сторона. Возможностью оцифровывать данные воспользовались и специалисты по digital humanities, и те, кто работал со статистикой, — у них появился новый классный инструмент. Соответственно, стали развиваться два типа исследовательских организаций. С одной стороны, это сплав математиков, технарей, социологов и, допустим, биологов, которые стали применять новые статистические методы — и, например, экстраполировать биологические модели на общественную жизнь. С другой стороны, возникли исследования того, как интернет влияет на демократию, экономику и другие вопросы, которые волнуют общество. В начале нулевых начинаются регулярные опросы про интернет, появляются крупные исследовательские центры, например огромный центр Pew Research Center’s Internet & American Life Project в Америке, Oxford Internet Institute.
Еще важная точка институализации исследований интернета — это право; в Гарварде и Стэнфорде исследовательские центры возникают именно вокруг правовых вопросов. Предыстория во многом связана с борьбой за копилефт, то есть изменения законов об авторском праве, свободный доступ и распространение контента. Это идет от Лоуренса Лессига, который сформулировал довольно простое объяснение, почему в цифровую эру говорить об авторском праве — старомодно и неправильно. Он приводит такое сравнение: если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и вы даете мне яблоко, то у вас их ноль, а у меня два. А если у вас вместо яблока электронная книга, то вы ничего не теряете. Эта идея настолько завораживает огромное количество людей до сих пор, что становится понятно, что право на информационную собственность должно меняться.
В конце нулевых при университетах и корпорациях — при Microsoft, Google — возникает много исследовательских центров. В образовании никакого единства нет — и, возможно, не скоро будет, потому что в каких-то университетах интернет больше сплавлен с медиа, в каких-то — с технологиями, в каких-то — с социологией и так далее.
— Справляется ли интернет с задачей объединять людей? Или он уже стал чем‑то другим — медиа, рынком и так далее?
— Все же не уверена, что объединять людей — это сейчас основная задача интернета. Отчасти он ее уже выполнил, отчасти переходит сейчас к совсем другим функциям. Начиная от самых прикладных, заканчивая почти противоположными. Проиллюстрировать это можно вот как. Есть теория диффузии инноваций, которая, если упрощать, говорит, что когда изобретается что-то новое, у этого явления или предмета появляются первые последователи, потом вторые, потом третьи, и в результате все без исключения радостно пользуются айфонами, фейсбуками и прочим. Ее часто критикуют, так как эта концепция не учитывает, что многим людям не нравится тот эффект, который эти новшества производят на их жизнь. Они ощущают усталость от инноваций, не поспевают за бурными изменениями и так далее. И поэтому, помимо быстрого распространения, технологии в какой-то момент начинают ограничиваться. Необходимость соединять людей, о которой вы сказали, сменяется необходимостью отгораживать их, замыкать в небольшие группы. Сейчас мы видим второй из этих процессов.

С другой стороны, технология сама по себе ничего не делает, она инструмент. Конечно, когда новые возможности проникают в старые институты, институты могут им радоваться, а могут сопротивляться — но в любом случае они будут находить какие-то способы инструментализировать технологии. Например, когда государство взаимодействует с интернетом, оно может не только его ограничивать, но и передавать ему часть своих функций. Мы проводили контент-анализ дискурса глав государств, и, когда Медведев говорил, что онлайн-трансляции из судов помогут побороть правовой нигилизм, мы понимали, что он явно делегировал технологии какую-то роль. И так говорят не только в России. Конечно, какие-то сферы пытаются регулировать, но главное в технологиях — то, что мы с ними уже живем, интернет уже никто не отменит.